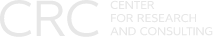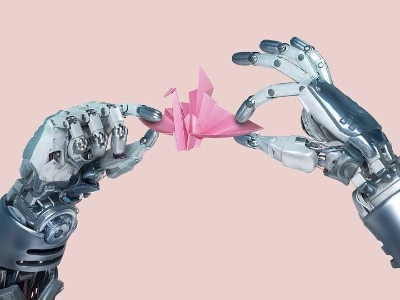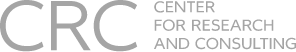Новости
Растолкать стимулятора
6 мая 2015

Один из тезисов Стратегического плана развития РК до 2020 года, принятого в 2010‑м, гласил: «Сформированы и успешно функционируют институты развития, подготовлено необходимое законодательство». Через три года вроде бы уже сложившуюся стройную систему институтов развития (ИР) было решено еще раз серьезно реформировать, а задачи этих институтов — корректировать с учетом выявившихся в ходе «новой индустриализации» проблем.
Собственно, первая ГПФИИР стала моментом истины для отечественных институтов развития. Стало окончательно понятно, что ИР — жизненно важный элемент системы инновационно-индустриального развития, а не просто бутафория для очередных проектов государственных мужей. В этом материале мы попытались разобраться, как встроена отечественная система ИР в программу индустриализации и какие изменения в задачах этих институтов произошли с учетом ГПФИИР-2*.
В поисках смысла
Согласно расхожему определению, ИР — любые специализированные государственные или квазигосударственные компании, призванные стимулировать развитие тех секторов экономики, которые тормозят социально-экономическое развитие страны. Как правило, рывок требуется не только в сфере инноваций, энергетики, транспорта и коммуникаций, но также и в других секторах экономики, где присутствуют всякого рода дисбалансы. Данные институты принимают форму банков развития, агентств, фондов. Иногда они могут быть организованы в холдинговые структуры.
В Казахстане система ИР, общая цель работы которых — диверсификация экономики, не менялась с момента образования, начала складываться в начале 2000‑х, когда к основанному в конце 1990‑х Фонду развития малого предпринимательства (ФРМП, ныне фонд развития предпринимательства «Даму») прибавился сначала Банк развития Казахстана (БРК, с 2001 года), а затем, с 2003‑го, Инвестиционный фонд Казахстана (ИФК), Национальный иннновационный фонд (НИФ, ныне — Нацагентство по технологическому развитию — НАТР) и Госкорпорация по страхованию экспорта (ныне «КазЭкспортГарант» — КЭГ). Все эти ИР были призваны стать опорой бизнеса в ходе реализации Стратегии индустриально-инновационного развития на 2003–2015 годы.
Во второй пятилетке ИР продолжат концентрировать усилия не поддержке начинаний в обрабатывающих секторах, мобилизуя для этого частные деньги, фокусируя кредитование со стороны БВУ и других фин-институтов на целях индустриализации
В 2006‑м список ИР пополнил холдинг «КазАгро», нацеленный на развитие аграрного сектора. В 2007‑м появился «фонд фондов» — Kazyna Capital Management (KCM). Все эти структуры создавались как квазигосударственные (АО со стопроцентным пакетом правительства РК). Параллельно рождались и трансформировались (меняя названия и цели) и внутригосударственные (в структуре министерств) институты вроде агентства по развитию экспорта Kaznex Invest, Нацагентства по развитию местного содержания (NADLoC), Центра инжиниринга и трансферта технологий, Казахстанского института развития индустрии (КИРИ) и др.
Здесь необходимо рассказать, какие участки ответственности были нарезаны всем названным ИР. БРК — долгосрочное кредитование индустриальных и инфраструктурных проектов, ИФК — инвестирование несырьевых проектов через вход в капитал, ФРМП — финансовая и нефинансовая поддержка субъектам МСБ. Мандат КЭГ — страхование и перестрахование отечественных экспортеров продуктов и капитала. Усилия НИФ были сконцентрированы на материальной поддержке разработок инноваторов (проектное и венчурное финансирование). КСМ должен был совместно с частными инвесторами входить в фонды прямых инвестиций (ФПИ) и венчурные фонды, которые впоследствии вкладывались бы в реальный сектор — инновационные проекты МСБ. Как видно, некоторые инструменты дублируются.
К 2006‑му назрела необходимость объединить (для лучшей координации и управляемости) большую часть существующих квазигоскомпаний в два холдинга — «Самрук» (госкомпании реального сектора) и «Казына» (ИР). Через два года, преследуя те же цели, но используя антикризисную риторику, оба холдинга слили воедино и получился Фонд национального благосостояния «Самрук-Казына». В 2009 году большинство ИР передали под управление соответствующим министерствам. Например, БРК ушел под Мининноваций и новых технологий (МИНТ) — орган, ответственный за выполнение спланированной на 2010–2014 годы ГПФИИР. Владельцем ИР оставался фонд «Самрук-Казына».
Индустриализация указывает цели
Перед стартом ГПФИИР функции ИР несколько изменились после тяжелой кризисной просадки экономики. НИФ потерял на венчурном инвестировании, в ФРМП (прошедший после этой истории ребрендинг и ставший «Даму», по-казахски «развитие») вскрылись хищения в региональных филиалах. После этого в фондах сменилось руководство и акценты в работе этих институтов были перенесены с финансовых инструментов на консультационные. ИФК также получил убытки, по состоянию на начало 2010 года из 36 проектов портфеля фонда было реализовано только три. БРК, взявший на себя роль кредитора больших и средних гринфилд- и браунфилд-проектов в условиях банковского кризиса, также в итоге набрал значительный объем неработающих кредитов.
«В отсутствие должного финансирования со стороны коммерческих финансовых институтов эту нишу на казахстанском рынке пришлось занять государству через систему национальных холдингов и институтов развития. Система институтов развития была расширена и настроена с учетом нужд индустриально-инновационного развития. Были опробованы различные инструменты поддержки индустриального развития: субсидирование процентных ставок, возмещение расходов и предоставление грантов на инновации и внедрение технологий, возмещение части затрат субъектов индустриально-инновационной деятельности, гарантирование кредитов и прочее»,— чертят траекторию движения казахстанской системы ИР авторы программы второй индустриальной пятилетки.
История ИР в период индустриализации делится на два этапа: до создания Национального управляющего холдинга «Байтерек» (середина 2013 года) и после. Первый этап институты прошли на инерции, заложенной после изменений 2009–2011 годов (передача в управление министерствам, активизация информационно-консультативной работы). Результаты за эти два года работы оказались лучше, чем в предыдущие десять лет. Стоит отметить кейс БРК, который вместе с лизинговой «дочкой» «БРК-Лизинг» стал прибежищем инвесторов в средние и крупные проекты обрабатывающей промышленности, а также сектора транспорта и коммуникаций. Однако и этот темп политическое руководство страны посчитало неудовлетворительным.
«Мы создавали Банк развития Казахстана для кредитования длинных кредитов. Банки второго уровня — они коммерческие, они, по сути, не могут этого делать. А эти (БРК. — “ЭК”) должны давать. Во что они превратились сейчас? То есть должно быть четкое агентство развития экономики, которое определит точечно, по каким отраслям, что мы хотим построить, для чего кредиты нужны, поскольку государственные деньги там»,— раскритиковал систему ИР в середине позапрошлого года президент Нурсултан Назарбаев.
Кроме того, переподчинение ИР госорганам изменило и их корпоративную культуру, в которой, как отмечали информированные собеседники «Эксперта Казахстан», утвердились коррупция, клановость и практика бесконечной отчетности перед вышестоящими инстанциями, которая превратилась из индикатора в единственную цель работы многих сотрудников ИР.
Институты получали критику и от бизнеса за высокую (иногда на уровне комбанков) стоимость ресурсов, сложность процедур, предшествующих выдаче кредита и получения лизинга, и другие огрехи. Фактически ИР зажали в коридоре, с одной стороны которого от них требовали дешевых длинных денег с минимальной ответственностью (т.н. «посевных инвестиций»), а с другой — подробного отчета о судьбе и эффекте буквально каждого выделенного тенге.
Сестры и серьги
Следующая попытка улучшить систему институтов развития фактически вернула ситуацию на семь лет назад — в «Самрук». Только вместо агентства-координатора, о котором говорил летом 2013‑го президент, возник национальный управляющий холдинг «Байтерек», куда вошли практически все квазигосударственные ИР, кроме «КазАгро». Стратегии компаний были в очередной раз переписаны. В итоге за развитие индустрии, а также смежный с этим процесс привлечения инвестиций и поддержки экспорта теперь отвечают БРК, НАТР, ККМ, ИФК, «Даму» и КЭГ. КИРИ, NADLoC и Kaznex остались при Мининдустрии, которое сегодня носит имя Министерства по инвестициям и развитию.
«БРК определен стратегическим инструментом правительства по индустриализации»,— с 2010 года твердили официальные лица «Самрук-Казыны» и правительства. И действительно, БРК более других ИР походил на избранный компанией в качестве брендового образ ледокола. Банк, профинансировавший свыше сотни длинных (от 5 лет) проектов (в том числе браунфилды гигантов вроде Атырауского НПЗ и КЭЗ, а также средние гринфилд-проекты вроде «Каустика» и «Евраз Каспиан Стали») только за 2009–2013 годы выдал экономике 177 млрд тенге кредитов, в среднем увеличивая темпы кредитования на 17% в год.
В 2013‑м «Байтерек» анонсировал корректировку в формат работы банка: БРК концентрировался на крупных проектах стоимостью свыше 30 млн долларов. Необходимость несырьевых крупных и средних компаний в дешевом лизинге технологического оборудования как закрывал, так и закрывает «БРК-Лизинг»: он берется за сделки от 150 млн тенге (около 1 млн долларов по курсу 2013 года) и выше, предлагая конечную ставку в 5%. Менее дорогие проекты (их реализовывали компании МСБ) финансировал «Даму». Кроме того, БРК влил 50 млрд тенге в 13 коммерческих банков для финансирования по льготной ставке (не более 6%) крупных и средних проектов (лимит финансирования — от 200 млн до 5 млрд тенге на один проект) несырьевого сектора на срок до десяти лет. В списке услуг банка также присутствует мезонинное финансирование и участие в капитале.
ИФК, у которого из 36 проектов на 34,3 млрд тенге выстрелили только 6 на 5 млрд, перепрофилировали в фонд по управлению стрессовыми активами. Из БРК в фонд дополнительно передали портфель проблемных кредитов в 100 млрд тенге. В этом году ИФК завершит все добайтерековские проекты и целиком сосредоточится на управлении стрессовыми активами.
«Даму» продолжил работать с инструментами «Дорожной карты бизнеса-2020». Причем интересом у МСБ пользуются все три базовых направления ДКБ: поддержка бизнес-инициатив субсидированием ставки кредита, лизинга (до 12,5%) и гарантированием по кредиту (до 50% объема займа); оздоровление субъектов бизнеса; поддержка экспортно ориентированных производств. Конечно, первое направление — наиболее массовое. По нему с 2010 года по сегодняшний день («Даму» отчитывается еженедельно) бизнес уже получил около 54 млрд тенге субсидий. На оздоровление МСБ ушло 17 млрд, а поддержка экспортеров обошлась в 18,5 млрд. Причем 40% субсидий (1‑е и 3‑е направление ДКБ) ушли в предприятия обрабатывающего сектора, 30% — в сектор транспорта и складирования. Также ФРП усилил образовательную (нефинансовую) часть своей деятельности программой «Бизнес-советник» и агрегировал инструменты поддержки в рамках госпрограммы развития моногородов.
Работа остальных ИР не претерпела существенных изменений.
Не успевают, но хотят ускориться
Во второй пятилетке ГПФИИР на 2015–2019 годы ИР продолжат концентрировать усилия на поддержке начинаний в обрабатывающих секторах, мобилизуя для этого частные деньги, фокусируя кредитование со стороны БВУ и других фининститутов на целях индустриализации. Система, как ожидают в Астане, начнет работать ритмичнее и слаженнее.
«Байтерек» выявил, что при темпах роста ВВП в 7% в 2015–2019 годах экономике Казахстана необходимы инвестиции на уровне 430 млрд долларов. Даже если бы сохранялась посткризисная (2010–2014 годы) динамика притока государственных, внутренних частных и иностранных инвестиций, данный поток дал бы лишь 380 млрд. Этот дефицит в 50 млрд, отмечают авторы ныне действующей стратегии «Байтерека», сопоставим с общей потребностью в инвестициях для отраслей-приоритетов второй ГПФИИР — 52 млрд долларов. В свою очередь недофинансирование по проектам ГПФИИР-2 может достичь 12–14 млрд долларов.
Накачивать экономику деньгами предстоит главным ИР. БРК активизирует кредитование в тенге вдвое. В том числе за счет того, что объем внутренних заимствований должен вырасти с 22 до 41%. В перспективе до 2020 года доля ссудного портфеля к активам банка подтянется с 60 до 75%. Сам портфель будет доведен до 2,6 трлн тенге. Объем профинансированных проектов вырастет с 1,3 до 2,8 трлн. ROE банка снизится с уровня 2013 года — 7,6% — до показателя не менее 3%. Соотношение долг/капитал вырастет с 3/1 до 6/1.
Стратегические приоритеты банка не меняются: он намерен продолжить поддержку проектов несырьевой промышленности и инфраструктуры (портфель распределится как 70:30; из этих 70% четыре пятых предназначены для приоритетных секторов ГПФИИР-2). БРК продолжит кооперировать усилия на отдельных участках с БВУ и по межбанковскому кредитованию, и по другим инструментам. Объем проектов на принципах проектного и синдицированного финансирования — точечно внедряемая пока новация — должен составить не менее 10 млрд долларов.
ИФК продолжит набирать компетенции как управляющий стрессовыми активами и «целитель всех производственников».
«Даму» продолжит работу по ДКБ и собственным программам, снизив стоимость денег, которые будет получать в рамках этих программ МСБ, до 6%. Увеличится и срок кредитования — до 10 лет. Средства на это «Даму» получит из Нацфонда (транши для МСБ общим объемом в 200 млрд тенге на 20 лет), 60 млрд тенге фонд займет на внутреннем рынке.
Реформе подвергнут деятельность KCM. Напомним, что фонд вошел в 10 фондов прямых инвестиций, приобретя в них долю от 5 до 50% с обязательствами в почти полмиллиарда долларов (только половина их географически приходится на РК). «Модель управления некоторыми фондами с участием KCM исторически показала свою неэффективность в части освоения выделенных средств и достаточности финансирования таких проектов, так как мандаты большинства портфельных фондов KCM имеют определенные ограничения в части финансирования проектов в приоритетных отраслях экономики РК»,— отмечается в документе. В KCM будут учреждены более гибкие Фонд инфраструктурных проектов и Фонд стартовых проектов, каждый из которых будет работать в своем направлении.
КЭГ разрешат финансировать и страховать риски БВУ при кредитовании экспортеров на пополнение оборотных средств. Через комбанки планируется запустить и предэкспортное финансирование производителей через размещение денег КЭГ на обусловленные банковские вклады.
НАТР в перспективе до 2023 года увеличит объем грантов с 2,2 (2014) до 16,1 млрд тенге, финансирование целевых технологических программ увеличится с 0,5 до 12,4 млрд. Внедряется проактивная поддержка производителей: агентство определит приоритетные технологические задачи промышленности, решение которых требует крупномасштабных прикладных исследований, и профинансирует эти работы. НАТР развернет два крупных венчурных фонда, а также 12 поменьше совместно с корпоративным сектором. Увеличит количество инкубированных стартапов с 5 в год до 25. В итоге общий инвестпортфель НАТР увеличится с 8,6 до 35,5 млрд тенге, сумма предоставленных грантов — с 2,2 до 58,2 млрд, доля коммерциализированных проектов — с 15 до 30%.
* Госпрограмма индустриально-инновационного развития на 2015–2019 годы (ГПИИР)
Не форсировать взросление
Казахстанские институты развития — тема, на которую эксперты говорят неохотно. С одной стороны, не многие действительно хорошо разбираются в особенностях работы ИР, с другой — проблематика настолько остра, что сложно не скатиться с критики во взаимные обвинения. Поэтому «Эксперт Казахстан» попросил охарактеризовать работу ИР человека, знакомого с ситуацией изнутри — бывшего главу КИРИ, независимого эксперта Ануара Буранбаева.
— Ануар, насколько упорядоченной и стройной видится вам сложившаяся в РК система институтов развития?
— На роль институтов развития в экономике необходимо смотреть в контексте каждого странового случая. Как правило, институты развития — это инструмент развивающихся экономик для решения проблем, которые не в состоянии быть решены рыночными механизмами. Для РК создание и развитие институтов развития — путь диверсификации экономики за счет развития несырьевых секторов. На мой взгляд, основной целью создания институтов развития было облегчить доступ местных компаний к финансовым ресурсам. В развивающихся экономиках рыночные механизмы не в состоянии обеспечить доступность финансовых ресурсов и их адекватную стоимость для развития производств, особенно в обрабатывающей промышленности. Если проследить историю создания казахстанских институтов развития, то первыми появились следующие три института, каждый со своим предназначением. Банк развития Казахстана — для обеспечения доступа к инвестиционному долговому финансированию. Инвестиционный фонд — для обеспечения доступа к капиталу. Национальный инновационный фонд — для финансирования инноваций. По мере развития экономики появляются новые задачи и соответственно эволюционирует система институтов развития. Наиболее полное описание она получила в законе «О государственной поддержке индустриально-инновационной деятельности». Появление институтов с новой функциональностью — это ответ государства, нацеленный на преодоление новых барьеров: при продвижении экспорта, для привлечения инвестиций, трансферта технологий, локализации производств, развития МСБ и так далее. Какая система лучше или хуже, сказать сложно. На мой взгляд, стройность и упорядоченность определяется вкладом системы в развитие экономики.
— Какие успехи можно признать за казахстанскими институтами развития в целом?
— Успехи институтов развития — это, пожалуй, наиболее дискутируемая тема в контексте всей индустриализации. Здесь нет единого взгляда. Как всегда, есть светлые и темные стороны. Однозначным плюсом сложившейся системы ИР является то, что такая система уже существует и у предпринимателей в РК есть возможность обратиться за государственной поддержкой. Истории успеха есть на сайтах каждого из институтов. Давайте зададим вопрос иначе: как лучше, с ними или без них? Если ИР нет, то и нет каналов доведения государственной поддержки. Сегодня есть возможность получения дешевых, с учетом нашей страновой специфики, займов как для МСБ через систему «Даму», так и для крупного бизнеса — через БРК. Есть возможность получения капитала, осуществляется поддержка экспортеров при выходе на внешние рынки и так далее. Много скепсиса по поводу эффективности институтов развития, но много вопросов и об эффективности казахстанского бизнеса в целом, во всех его формах и отраслях, где он представлен. Взаимодействие институтов и бизнеса — это встречный процесс. Сложно иметь суперэффективные институты при, скажем мягко, не очень эффективном бизнесе. Предприниматели — это клиенты институтов. Будут расти адекватные требования клиентов, будут расти стандарты и эффективность институтов развития. По моим наблюдениям, эволюция продолжается.
— Какой эффект возымело объединение большинства институтов развития в НУХ «Байтерек»?
— На мой взгляд, это ответ на критику общества об отсутствии координации между институтами развития. Создание «Байтерека» стало попыткой скоординировать усилия по предоставлению финансовых инструментов государственной поддержки. Создать «одно окно», куда может обратиться предприниматель за господдержкой. Говорить об эффекте работы «Байтерека» еще рано. К сожалению, это общая беда нашего общества, ожидание немедленных результатов. «Байтерек» был создан во второй половине 2013 года, полтора года — недостаточный, на мой взгляд, срок, чтобы говорить о каком-то эффекте. Требуется время для выработки стратегии, настройки бизнес-процессов, синхронизации и создания единой корпоративной культуры. Компания находится еще в детском возрасте. На мой взгляд, потенциально проблемы «Байтерека» могут проявиться, если основной упор будет сделан на развитие его финансовых компетенций и выпадет из фокуса его предназначение быть национальным агентством развития.
следующие статьи